27 февраля 1944 г., воскресенье
Спешу записать самое главное. Остальное – неважно. 26 января мы трагически потеряли Бухчика. И это было началом конца. Мы должны были перестать выжидать. Надо было решительно искать пути бегства в Каменец к своим.
Бухчик стоял неподвижно, бессильно опустив руки, предельно бледный и как бы непонимающий, что произошло. Потом повернулся к нам и, как-то виновато улыбаясь, сказал: "Alles kaput!"
Утро началось как обычно. Было очень холодно. Спешили все окончить к завтраку, потому что с вечера моя напарница оставила груду грязной посуды. Потом мы с Бухчиком принесли канистры, и начался обычный день, обычный завтрак, в который и официантки, и Алоиз бегали бегом, подавая и убирая еду и посуду. К концу завтрака выяснилось, что кто-то опоздал, и Бухчик скомандовал Людмиле подать еще прибор, а сам начал спешно готовить яичницу. Как всегда, ловко набросив на руку салфетку, он стремительно вышел из кухни, неся сковородку с шипящей глазуньей.
Он быстро вернулся в кухню и что-то делал у плиты, когда вдруг послышались быстрые шаги, дверь с шумом распахнулась и в кухню вскочил один из офицеров. Он был без фуражки. Лицо его, покрытое угрями, было искажено бешенством. Водянистые выпученные глаза в совершенно бесцветных ресницах и под такими же бровями, казалось, готовы были выскочить из орбит. В руках у него был столовый нож, чистый, который он тыкал Бухчику почти в лицо и при этом быстро, быстро что-то кричал с такой злобой, что брызги из его рта попадали на китель Алоиза.
Бухчик, как обычно, вытянулся перед офицером, и, ничего не отвечая, смотрел на мелькавший перед его глазами нож. Мы смогли разобрать в этом граде незнакомых слов только то, что ему дали грязный нож и что Бухчик ему за это заплатит. Он продолжал бесноваться, а Бухчик все стоял молча по стойке "смирно", вытянув по швам руки. Он только покраснел. Наконец офицер перестал орать. В кухне стало совершенно тихо. Тогда вдруг он, презрительно скривив губы, глядя прямо в лицо Бухчику, прошипел:
– Scheise!
И тут произошло невообразимое. Бухчик побелел, как полотно, и изо всех сил ударил обидчика кулаком по физиономии. Мгновение, и выпученные глаза альбиноса метнулись перед нами. Он стукнулся головой о стену и с трудом удержался на ногах. От неожиданности или от боли он сначала ничего не мог произнести. Потом он выдохнул из себя только: "Ah, soh!", швырнул на пол нож и опрометью выскочил из кухни.
Мы все обмерли. Бухчик стоял неподвижно, на том же месте, бессильно опустив руки, предельно бледный и как бы непонимающий, что произошло. Потом повернулся к нам и, как-то виновато улыбаясь, сказал:
– Alles kaput!
Потом он сел на свою излюбленную табуретку, поставив ноги на перекладину, опустил голову на руки и больше не произнес ни слова.
Мы все понимали, что произошло. Никто ничего не говорил. Не в силах что-либо делать, мы стояли на тех же местах, где нас застала эта непоправимая беда. В томительной тишине прошло, очевидно, с полчаса или больше.
Потом в коридоре раздалось громкое топанье кованых сапог. И два эсесовца в черной форме увели Бухчика. Он так и ушел, не проронив ни слова. Больше мы его не видели.
Мы подняли с пола злополучный нож. Он был чистый, но на нем было круглое темное пятнышко, величиной с маленькую горошину, которое не отчищалось.
Когда Беннер особенно бесился, Людмила говорила ему по-немецки: Научись по-русски хлеба просить. Это тебе скоро пригодится
Более суток справлялись в казино сами, как могли. А потом появился новый начальник – ефрейтор Беннер. Контраст был слишком велик. Все резко изменилось. И словно судьба Бухчика оказала влияние на все развитие военных событий. Все в стремительном темпе понеслось к концу, которого мы так ждали и так боялись, что не сможем дождаться.
Первое знакомство с новым начальством. Он пролаял длинное приветственное слово по-немецки, из которого мы поняли одну десятую часть, и выкинул вперед руку с криком "Хайль Гитлер!"
Среднего роста, худой, он в ефрейторской форме казался карикатурой со страниц окон ТАСС первых дней войны. Или еще словно изображал кота в сапогах из детских сказок. Все на нем висело, болталось, как на чучеле, несмотря на требования к военной выправке. Выглядел он лет на семьдесят со своим совершенно серым лицом с нечистой кожей. Когда он говорил, вернее кричал лающим криком, в углах его рта собиралась пена.
Девчата заговорили между собой по-русски и тут же получили выговор:
– Прошу по-русски не говорить, только по-немецки.
И все теперь делалось под начальственные окрики, в лучшем случае. В худшем – он брызгал в бешенстве слюной и выкрикивал немецкие ругательства. Лакей в гражданской жизни, он ненавидел наших людей всех подряд, и, если бы мог, душил бы, кажется, каждого своими волосатыми корявыми руками. Особенно он ненавидел Людмилу, которая продолжала сохранять свою независимость. Она не спускала ему грубости, и иногда он набрасывался на нее с кулаками, явно желая ударить ее. Лида и я молчали на все. Но положение наше становилось все нестерпимее, и все острее делалась необходимость бежать. Когда Беннер особенно бесился, Людмила говорила ему по-немецки:
– Научись по-русски хлеба просить. Это тебе скоро пригодится.
И вот 12 февраля приказ о свертывании лагеря. Теперь мы надеялись окончательно. Началась упаковка всякого инвентаря, в том числе и столового. Вся посуда была уложена в ящики, и пленные вместе с солдатами вынесли все на машины, которые тут же ушли в направлении нам неизвестном. Мы срочно уложили свои рюкзаки в надежде на то, что это уже приближение какого-то выхода для нас. И вдруг к вечеру 13 февраля снова отбой. Никто никуда не едет, столовая продолжает работать.

Немецкие военные возле Каменец-Подольского в феврале 1944 года. Фото: warsite.ru
Создалась курьезная ситуация. Кормить господ офицеров нужно, а посуды нет. Срочно принесли алюминиевые солдатские миски и ложки. И двое суток было легко и просто. Перемыть шестьдесят мисок и ложек совсем легко. Тем более, что и кастрюли увезли. Одни канистры с айнтопфом. А на третьи сутки мне снова пришлось испытать волнение, подобное тому, какое вызвали в августе-сентябре прошлого года книги, привезенные из Кенигсберга в нашу библиотеку. Богатство людей, которых уже, очевидно, не было в живых. Чужие раздавленные жизни.
Привезли ящики посуды, чтобы казино могло продолжать работать. Беннер открыл крышки. И когда я из стружки стала вынимать тарелки, бокалы, стаканы, я не поверила своим глазам. Это была изумительной красоты посуда из тончайшего стекла и фаянса, вся с вензелями французского Hotele de Paris. В вонючую, замызганную столовую захолустного оккупированного Проскурова грабители приволокли достояние знаменитого отеля из растоптанного ими Парижа.
Cудьба, в который раз (!), не дала мне погибнуть. Но уже нельзя было больше ждать. Да и жизнь распорядилась за нас
Но награбленной посудой нам почти не пришлось пользоваться. События неслись с неимоверной быстротой, в которой смешалось общее и личное. Началось с того, что Нюсе удалось узнать о намеченной в связи с отступлением грозящей расправе с пленными. Мы сразу передали это товарищу, с которым говорила раньше. А 19 февраля утром, когда я кончала мыть посуду, в коридоре послышался громкий разговор и немецкая брань. Затем в кухню влетел взбешенный Беннер, схватил меня за руку и поволок к концу коридора к уборным. С тех пор, что не стало Бухчика, уборные убирала я. Убрала и в этот день с утра.
В уборных было три отделения: два для общего пользования, а третье – для высшего начальства – генерала, которого мне не приходилось видеть ни разу. Его отделение запиралось на ключ. Один был у него, второй висел в кухне. И вот оказалось, что кто-то из посетителей столовой решил воспользоваться генеральским туалетом, перелез через деревянную перегородку и там расправился, оставил для удовольствия генерала полную порцию своих экскрементов. Генерал орал на Беннера, Беннер все валил на меня.
Теперь, когда стало ясно, о чем был крик в коридоре, я вспомнила, что слышала несколько раз повторенное слово "концлагерь". И Беннер действительно сообщил мне, что за гадость в уборной я отвечу в концлагере. Пока же он ткнул мне в руки ведро и тряпку с приказом срочно убрать. Не зная, не приведут ли они в исполнение свою угрозу, я, войдя в уборную, разорвала в клочки свою записную книжку и вместе с немецким добром спустила в унитаз. Что я могла предпринять? Значит, теперь и мне была суждена доля моей семьи. В состоянии полного отупения я стала ждать.
Однако день прошел, меня не забирали. Опять судьба, в который раз (!), не дала мне погибнуть. Но уже нельзя было больше ждать. Да и жизнь распорядилась за нас.
Галя и Нюся вернулись с работы. И как только стемнело, мы вышли с территории лагеря с надеждой, что больше мы сюда не вернемся
Ночью мы все вскочили от суматохи и криков в доме. В окно вырвалось огромное зарево. Оно было далеко от нас, но можно было разобрать, что горят самолеты на аэродроме. Силуэты еще целых машин были видны на фоне зарева. Через некоторые промежутки высоко в небо взлетал столб дыма и огня. Никто не спал в ту ночь. А утром в казармах не было уже ни одного военнопленного или Hiwi.
Мне пришлось работать и 20-го числа, потому что моя напарница не явилась на работу. Когда же я после 12 часов ночи возвращалась в общежитие, из тени в углу дома отделилась фигура мужчины. Я вздрогнула от неожиданности, но тут же узнала товарища, который, как мы надеялись, поможет нам найти связи с нашими.
– Не пугайтесь, – сказал он. – Это я, Иван. Вам тоже нужно уходить.
И он назвал мне адрес и пароль. Он теперь был не в рваной шинели, а в ватнике и ушанке. Не успела даже поблагодарить его. Он исчез так же быстро и тихо. И в эту ночь мы не спали. День 21 февраля был для нас днем величайшего волнения. Мы боялись того, что вот сейчас, когда приближается час, которого мы столько ждали, что-нибудь случится непоправимое. Шаги на лестнице, каждый стук в соседние или наши двери казался роковым.
Но вот уже Галя и Нюся вернулись с работы. И как только стемнело, мы вышли с территории лагеря с надеждой, что больше мы сюда не вернемся.
Мы долго шли по темному Проскурову с опаской, спрашивая редких прохожих о нужной нам улице. Пришли мы уже после шперштунде. Потом мы долго негромко стучали, пока нас впустили в калитку, а потом в двери небольшого домика. Света сперва не зажигали. Потом, когда стало ясно, что мы это мы, нам предложили снять рюкзаки и раздеться. Мы поужинали вместе с хозяевами, соединив их и наши продукты. В семье было трое детей, Иван и его жена. Потом нам постелили на полу и предупредили, что задолго до рассвета нас должны погрузить в машину, идущую с каким-то грузом в Каменец.
Понятно, что и в эту ночь нам не пришлось спать. Мы сидели на бочках не то с мазутом, не то со смолой. Места для ног не было, их сводило судорогой. Но мы ничего не замечали. Сквозь щель в брезенте, которым была крыта машина, мы видели, что делалось на дороге за нами. Мороз ослабел, и дорога представляла из себя месиво из грязи и снега. Вплотную одна за другой шли машины с немецкими солдатами, орудиями, скотом, с какими-то грузами. В сторону Проскурова двигался один поток. От Проскурова лавина в несколько рядов. А по бокам от дороги в обе стороны шел "обоз Гитлера".

Отступлениеotstuplenie_nemtsev_pod. Фото: reibert.info
Как и возле Киева, это были вереницы замученных горожан с санками и детскими колясками, с возиками самых разных конструкций. Разница между движением на дороге и по сторонам ее была лишь в том, что машины непрерывно останавливались из-за постоянных пробок, а "обоз Гитлера" двигался безостановочно медленно и уныло. Несколько раз над дорогой появлялись советские самолеты. Тогда начиналась паника и беспорядочная стрельба. Наши самолеты пикировали в места скопления военных машин. Люди кричали, соскакивали с машин и бросались в сторону от дороги. А мы радовались. И забывая о том, что ноги отекли, что мы окостенели от холода, что самолеты могут стрелять и по нас, мы чувствовали только одно: впереди освобождение, а над нами наши советские ястребы.
В Каменец мы добрались глубокой ночью. На Мукше у Юли стариков не оказалось. Их приютила добрая знакомая Елизавета Сидоровна Кулаева в своем маленьком домике на Лагерной улице. Туда мы добрались утром. И Елизавета Сидоровна встретила нас ласковыми возгласами: "Ой, сыну, ой, сыну! Все тут у нас будете". Вот здесь мы и остались. Здесь я пишу эти строки.
Предыдущая запись в дневнике – от 26 февраля. Следующая запись – от 3 марта 1944 года.

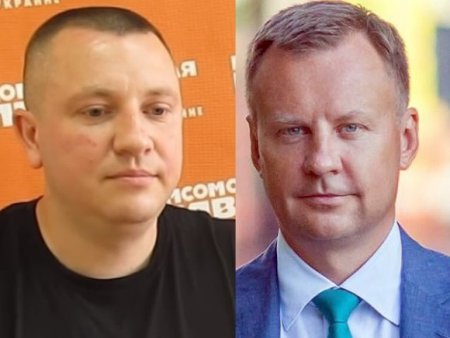
 Лютий 28, 2018
Лютий 28, 2018













